 Трофимова Е. Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого (попытка гендерного анализа) // Филологические науки. 2000. № 3. СС. 70-80.
Трофимова Е. Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого (попытка гендерного анализа) // Филологические науки. 2000. № 3. СС. 70-80.Бородина А., Бородин Д. Баба или товарищ? Идеал новой советской женщины в 20-х - 30-х годах // Женские и гендерные исследования в Тверском государственном университете. -Тверь, 2000. СС. 45-51.
Повесть А. Н. Толстого «Гадюка», изданная в 1928 г., вызвала достаточно широкий читательский резонанс. Ее не только обсуждали, но и в духе того времени даже устраивали суды над главной героиней — Ольгой Вячеславовной Зотовой. Обвинители, как правило, расценивали ее действия с социально-политической, классовой точки зрения. Однако сегодня мы можем взглянуть на произведение и с совсем других, например, гендерных позиций и учесть тезис У. Куайна о том, что наблюдение зависит от теории и что конечное число фактов может иметь бесчисленное количество интерпретаций.
Сюжетно повесть Толстого — это рассказ о двух революциях: внешней, социальной и внутренней, которая меняла общую психологию общества и затрагивала основополагающую систему ценностей, в том числе и отношения полов. Между этими процессами существует прямая связь, которая придает происходящим переменам особую остроту и драматизм, поскольку столкновение идей и сил сопровождается коренной ломкой прежних жизненных традиций и человеческих судеб.
Однако из множества явлений и процессов сопровождавших революционную эпопею Алексей Толстой выбрал частный аспект, связанный с таким феноменом, который можно условно назвать «революционный трансвестизм». Этот тип «переодевания» женщины в мужчину был весьма распространен в периоды социальных катаклизмов, войн и революций. В истории есть немало примеров, когда по тем или иным причинам женщины стремились облачаться в мужскую одежду, в военные доспехи, подражать мужским поступкам, играть доступные лишь мужчинам социальные роли. Вспомним хотя бы Жанну д'Арк или кавалерист-девицу Надежду Дурову. В годы русской революции и гражданской войны такие примеры весьма многочисленны — сотни, а может быть и тысячи женщин переодевались в военную форму, вели «мужской» образ жизни. Причин тому было много: от психофизических отклонений, от стремления выжить и сохраниться в чудовищных условиях разрухи и насилия до реализации в жизни типа так называемой «новой женщины».
Героиня повести «Гадюка» Ольга Вячеславовна Зотова принадлежала к буржуазной зажиточной семье, и жизнь, по ее же словам, планировалась соответствующе: «муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше — ничего!... И это — счастье...»[1]. Однако Гражданская война перевернула все. Бандиты убили родителей, зверски изувечили ее саму, разворовали и сожгли дом... Потеряв то, что составляло основу и смысл существования, свою прежнюю «социальную одежду», чудом выжив, Зотова встала перед выбором нового положения и облика, новой своей роли во враждебном и страшном мире. И в этом выборе немалую роль сыграл мужчина, красный командир Дмитрий Васильевич Емельянов. Он поддержал Ольгу своим вниманием (помог с жильем, затем взял в отряд), возбудил ее воображение мечтами о новой яркой жизни, например, рассказами о лихом, кровавом бое — «Тут уж — руби, гони... Пленных нет...» (197). Именно он вложил свое понимание жизни в ее сознание: «...прожила бы, как все, — жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука. <.....> Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же на счетах щелкать...»; «диким весельем блеснули его зубы», и от его слов «...хочешь не хочешь — гуляй с нами» у нее кружилась голова и как будто «память вставала из тьмы ее крови», крича «На коней, гуляй, душа!...» (187).
Под влиянием конкретных обстоятельств, объективных и эмоциональных, Зотова выбирает путь «революционного трансвестизма», вступая в конный эскадрон Красной армии. Походы, жизнь среди солдат, постепенное подчинение коллективистской идеологии — все это способствовало превращению барышни Зотовой в красного кавалериста, товарища Зотову. Ольга Вячеславовна свой «слабый» пол почти переделала на «сильный» — «за женщину ее мало, кто признавал» (209): «обстригла волосы», носила «кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и <...> козловые щегольские сапожки» (195), подаренные Дмитрием Васильевичем, «могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других» (209), «крыла матом», сделала татуировку на руке, для всех была «только братишкой».
Исходя из приведенного описания можно было бы сказать, что Ольга Вячеславовна достигла уровня мужчины и «стала человеком» в понимании аристотелевском, по которому мужчина — мера вещей, а женский — «слабый» — пол есть лишь материал, коему придает форму господствующий мужской ум и воля[2].
Война, несомненно, является высшей степенью проявления агрессивного характера существующей цивилизации. Именно в это время женщина наименее защищена и в наибольшей степени подвергается всякого рода насилию и влиянию. Жизнь Зотовой в эскадроне, ее стремление слиться с солдатской массой, трансформация своего имиджа под товарища-бойца были результатом маскулинистской идеологии, которая усиливалась культом насилия, царившего кругом. Подлинная же драма женщины, о которой рассказывает Толстой, произошла позже, когда военный коммунизм сменился либеральным нэпом.
Итак, писатель показал, что Зотова как бы стала «новой женщиной». Изменилось ее классовое сознание: она воюет на стороне красных, хотя сама происходит из богатой купеческой старообрядческой семьи — «Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца, гимназия, сентиментальные подруги, <...> сладкая тоска по северным, — каких в жизни нет, — героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита» (193); с презрением вспоминает ту уютную жизнь, говорит о ней с ненавистью, употребляет новую себя лексику: «Ненавижу эту девчонку... Счастья ждала, ленивая дура <...> Вот сволочь!...» (195). Она тонка, стройна, резка и порывиста, походит на юношу, и позже ее внешность вызывает раздражение и высказывания, типа, что Зотова и на женщину не походит, мол, «тоща и зла, как гадюка» (209), и прочее.
С середины XVIII века аристотелевская трактовка женщины как недочеловека начинает представляться несостоятельной, и «слабый пол» объявляется «противоположным», возникает бинарная оппозиция. Разница между мужчиной и женщиной становится принципиальной, женская роль теперь определяется ее специфическим, или «природным». Лозунгом становится высказывание, что биология — это судьба, или — более категорично — «анатомия решает судьбу»[2].
По мысли автора, Ольга Вячеславовна, изменив в себе многое, не смогла изменить главного, а именно, своей женской сущности, своей анатомии, а следовательно, судьбы. В повести постоянна мысль, что женщине надо получить мужчину и подчиниться ему, уничтожить в переносном и прямом смысле своих соперниц, других женщин. «Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него (в Емельянова. — Е. Т.)» (195), а однажды увидев улыбающуюся ему какую-то бабенку, догнала ее, «схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь: «Ты что: смерти захотела?... Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала» (205), а ведь при этом Емельянов не был ни мужем, ни любовником Ольги, у них были целомудренные отношения, хотя все в отряде и считали их мужем и женой. Когда же ее соседка по коммунальной московской квартире «безобидная», но со «скрытым и практическим умом»19-летняя Сонечка Варенцова, или, по-домашнему, Лялечка выходит замуж за любимого Ольгой Вячеславовной директора Махорочного треста и устраивает ей по наущению соседей пошлый скандал с визгом, то взбешенная Зотова убивает ее. Со «знакомой дикой» ненавистью она «... выстрелила и — продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо...» (221).
С полей сражений, из кочевий гражданской войны Ольга Вячеславовна попадает в другой мир. Мир, где в той или иной степени восстановлены былые принципы отношений полов, где доминирование мужского как бы закамуфлировано, скрыто (конечно, только в сравнении с тем, что творилось во время войны). В середине 20-х годов общество, манипулируя женской сексуальностью, восстанавливает в правах «куртуазность», кокетство, игру. На смену прямому насилию мужчины над женщиной приходит насилие административное и бытовое. Справедливости ради, следует отметить, что в 20-е годы в Советской России в области теории и практики отношений полов наблюдались разнонаправленные, а зачастую — и противоположные тенденции. Формально-правовое и политическое равноправие вполне сочеталось с бытовой репрессией женщин. Здесь можно согласиться с М. Фуко, который утверждает, что в истории «освобождение и подавление парадоксально часто идут рука об руку»[4]. Конечно, Ольге Вячеславовне очень трудно примириться с такой ситуацией, и ее «мужская прямота» не может ужиться с необходимостью лгать, изворачиваться, подлаживаться, угождать. Даже трансформация внешнего облика, облачение в женскую одежду дается ей с большим психологическим надрывом. Драма, приведшая героиню к настоящей трагедии, в том, что она никак не может принять новых, как она считает, фальшивых правил игры. Окружающий мир постоянно выталкивает ее, отторгает те качества, которые были взращены прежним «революционным трансвестизмом», ее уже не называют ласковым словом братишка, а только — «стервой со взведенным курком» (180). Отсюда — постоянно нарастающее сюжетное и психологическое напряжение по вести.
Толстой отмечает и еще одну характерную черту времени: изменение манипуляции женской сексуальностью в годы войны и последующего мира. Сначала требовался отчаянный «братишка» или комиссар вроде Ларисы Рейснер, готовый положить жизнь за мировую революцию, а спустя всего несколько лет были востребованы фильдеперсовые чулки, кудряшки и милое глупое щебетанье[5]. Цельный, бескомпромиссный характер Ольги Зотовой, полностью поверившей в освобождающее и очищающее влияние революционных перемен и для женщины в том числе, не позволил ей стать обывательницей в банальном значении этого слова. Но основой для трагедии и «потерь» изменившейся и ничего не приобретшей женщины являются, по мысли автора, так называемая природа женщины, ее биологическое предназначение и отсутствие рядом мужчины, который выше и природы, и женщины. Априори считается, что мужчина представляет собой некую высшую власть и «всецело объемлет <...> женский мир, [которого — Е. Т.] он — источник его существования»[6]. Бой за мужчину проигран, Его нет рядом: Емельянов убит (а ведь, «казалось: рассеки свистящий [его. — Е. Т.] клинок ее сердце — закричала бы от радости: так любила она этого человека...» — 197); директор Махорочного треста женат и не хочет быть с Ольгой («... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно, — пожалуйста, не лгите...» — 219). Нет мужчины в жизни, нет и ей там положенного (природой, анатомией, судьбой и т.д.) места, что и дает право автору привести героиню к преступлению и жизненной катастрофе.
Неспособность преодолеть приобретенный комплекс «мужского» типа поведения, пойти изворотливым, так называемым, женским путем для владения любимым мужчиной приводит Зотову к любовной драме: ей предпочли обладавшую всеми «женскими» качествами Лялечку. Своеобразным приговором Ольге Вячеславовне, пытавшейся открыто признаться Директору в любви, прозвучали его раздраженные слова, мол, бросьте, это не для вас, «Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. <...> Из вас может выйти хороший товарищ...» (219). История кончается тем, что отвергнутая, не пытавшаяся найти себя в новой жизни, осмеянная соседями по коммунальной квартире, Зотова в состоянии аффекта выстрелом из пистолета убивает Варенцову...
Хотя и трудно предположить, что Толстой осознанно ставил перед собой задачу чисто феминистского свойства, тем не менее как талантливый и проницательный писатель, как человек несомненно знакомый с идеями З. Фрейда, О. Вейнингера, будоражившими русское общество конца XIX — начала XX века, он сумел почувствовать и выразить в своей повести некоторые проблемы женской эмансипации. Писатель по-своему хотел осветить так называемый женский вопрос, постоянно проводя мысль о биологической детерминированности жизни женщины и о том, что чем больше разведены жизни мужчины и женщины, тем лучше для обоих полов; сближение и смешение полов в общении, не говоря уже о равенстве являются свидетельством происходящего упадка и катастрофы, — такова одна из идей А. Толстого в повести «Гадюка», — поскольку приводят лишь к несостоявшейся женской жизни и к краху.
Таким образом, через драму героини писатель демонстрирует тупиковый путь эмансипации женщины в абсолютном приятии маску линистской системы ценностей, в отказе от суверенных прав своей личности и полной трансформации «своего» в «другое».
Вербально скрытой, но в действительности весьма актуальной в жизни и в самосознании героини повести «Гадюка», является проблема тела и сексуальности, а также биологического, символического и метафорического аспектов их восприятия. До трагедии, которая привела Зотову в Красную армию, ее отношение к телу можно описать как традиционно мелкобуржуазное, «добропорядочное»: невинная девушка-невеста, преданная жена, мать законных наследников. Тело воспринимается не как источник собственных эротических удовольствий, а, вкупе с девственностью, как награда будущему супругу, как символ последующей «правильной» семейной жизни. Революционный вихрь мгновенно сломал эту метафорическую конструкцию: «неслыханные перемены» и «невиданные мятежи» коренным образом меняют отношение героини к своему телу. Этот процесс можно обозначить как десексуализацию представлений о телесном. Выражается это не только во внешней трансформации — смене одежды, маскулинизации облика, но и в приятии образа жизни, манер и даже менталитета противоположного пола. Ольга Вячеславовна живет, как простой боец, следует распорядку кавалерийской части, участвует в боях, убивает врагов. С командиром эскадрона, которого любила, ведет себя, как обычный красноармеец. Будучи его вестовым, нередко «ночевала с ним в одной избе и часто — на одной кровати: он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись каждый своим полушубком» (199). Зотова сознательно отрекается от своего тела и связанной с ним сексуальностью; она стремится спрятать его, закамуфлировать, нейтрализовать. Это противоречие между биологической сексуальностью и стремлением его идеологической элиминации приводит к первому, но весьма показательному конфликту. Суровая простота и целомудренность «товарищеских» отношений Зотовой и Емельянова разрушаются, когда последний видит Ольгу Вячеславовну во время утреннего обливания водой. «Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. <...> Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел. Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным — самое простое» (202).
Десексуализация тела, достаточно широко присутствовавшая в теории и практике большевиков как ярких представителей «нового типа» общения, имела две крайности. Одной из них была идея полиандрии (например, в случае Лили Брик или героинь повестей А. Коллонтай), которая в сущности выводила тело из области частно-интимных отношений, обобществляла его, превращая из объекта чувственно-эротических переживаний в предмет общедоступный. Артикулировалось это, как принесенная революцией свобода в отношении полов, пытавшаяся уравнять права мужчин и женщин. Таким образом, тело становилось социализированным объектом, вполне вписывавшимся в большевистскую концепцию тотального обобществления. Другим полюсом революционной десексуализации был революционный аскетизм, который часто выражался у женщин в «омужествлении» — мимикрии под противоположный пол. Мужеподобность — из-за невозможности биологической трансформации — достигалась изменением внешнего облика, манеры поведения, что позволяло камуфлировать формы женского тела. Военная или полувоенная форма, сапоги, футболки, короткая прическа, курение махорки, маскулинизированные, часто вопреки грамматике, речевые формы («товарищ Иванова») — все было призвано нейтрализовать, свести к минимуму внешнюю сексапильность женщины. И в жизни, и в литературе появляются характерные типажи женщин-комиссаров, профессиональных большевичек, партийных работниц, одним из демонстрируемых качеств которых было неприятие эротики, сексуальности, телесности (отрицание стереотипа, что женщина до любви, точнее, секса охоча, как кошка). Или, напротив, отношение к сексуальным/любовным отношениям слишком упрощенное, только, как к контактам (принятие такого стереотипа, как склонность мужчин к многочисленным сексуальным связям).
Весьма любопытный пример ненависти к телу можно обнаружить, правда, у представителя другого пола, в одном из классических произведений ранней советской литературы, романе Н. Островского «Как закалялась сталь». Павел Корчагин и Иван Жаркий, маниакально служащие делу революции, вдруг в санатории видят эстрадное исполнение современного танца. Глядя на танцующую пару, они чувствуют почти физическое отвращение к прильнувшим друг к другу мужскому и женскому телам, к такой, по их мнению, «буржуазной», форме выражения сексуальности: «<...> он в красном цилиндре, полуголый,... но с ослепительно белой манишкой... Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле». Эта парочка «в вихлястом фокстроте» крутилась на сцене. «Отвратительнее картины нельзя было себе и представить», мужик и женщина, прилипнув друг к другу, «извивались в похабных позах». Вдруг Жаркий закричал: «Довольно проституировать! К черту!»[7]. Для него это не просто разврат, но предательство дела революции, новых идеалов и отношений.
Однако такой накал в идеологизации и десексуализации тела был присущ лишь первым послереволюционным годам. Под влиянием внешних и внутренних обстоятельств режим отказывается от многих подобных этим идей. Новым хозяевам России для укрепления собственного положения приходилось отказываться и от идей «свободной любви», и от революционного аскетизма. С нэпом частично, неполно возрождались и некоторые черты буржуазной семьи, а с ними были востребовали символические, семантические и эстетические ценности женского тела. Традиционные понятия женственности, привлекательности, ухоженности, кокетства перестали определяться как враждебные. И важно отметить то, что женщина демонстративно начинает отождествляться исключительно с телом и его функциями (детородными или сексуальными). Хотя, конечно же, в 20 веке уже невозможна была реставрация «женственности» по викторианскому типу. Женщины стали пробиваться в сферы более высокооплачиваемых профессий, доступным стало образование (среднее и высшее), соответственно изменились отношения в семье, стала меняться ее структура (вспомним к\ф «Член правительства»). Женщины получили возможность работать и стали меньше экономически зависеть от мужей, стали меньше нуждаться в семье для получения средств к существованию. В это время увеличивается рост разводов, женщины позже вступают в брак, предпочитая сначала получить образование — все это связано с экономической и юридической самостоятельностью женщин. Эмансипация женщин делала и продолжала делать свою работу, но корни женской дискриминации уходят значительно глубже, и женщина репрезентируется все-таки биологически детер минировано.
Особенно наглядно женское тело используется в области визуальных искусств — живописи, монументально-декоративных жанрах, в плакате. В официальном искусстве 30-х годов оно обретает некоторые канонические черты, сохранившиеся вплоть до конца 90-х годов. Самый известный и яркий пример — фигура колхозницы в знаменитой скульптуре В. Мухиной. Большое грузное и сильное тело, простонародное, с грубыми чертами лицо, тяжелые, но абсолютно асексуальные женские формы — все это должно формировать образ мощной, трудолюбивой, плодовитой матери-Родины, которую каждый должен почитать и испытывать сугубо дочерне-сыновнее почтение. Идеологизированное женское тело почитается за выраженную в нем народную силу, любить его должно за воплощенную в нем заботу партии о народе. Даже гипертрофированная его плодовитость никак не связана с естественной способностью к деторождению. Такое тело производит на свет не людей, а героев-тружеников.
Итак, героине Толстого не удалось переделаться в «сильный» пол, обществом активно начинают подчеркиваться женские отличия, т.е. основной идейной конструкцией становится «противоположность» женского мужскому, выстраивается иная, отличная от революционного времени, концепция женственности, социум продолжает манипулировать женской сексуальностью. Этого перелома, что вполне понятно, не приняла Зотова. Она просто не знает, что ей делать со своим телом, ее внутренняя драма во многом определяется психологическим столкновением биологически детерминированных чувств с идеологизированным разумом, продолжающим воспринимать собственное тело как нечто ей не принадлежащее, подлежащее репрессии и ограничению. Но «ожидать случая, счастья, действовать по мелочам — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, — было не по ней» (218-219). Так называемая новая репрезентация женского тела, нашедшая воплощение в образе Лялечки, для Ольги Вячеславовны была неприемлема и невыносима.
Трагический накал повести тем более высок, что в ее основе лежит не только внешнее столкновение морали и аморализма, правды и лжи, хорошего и плохого. В моральном отношении Зотова ничем не лучше Варенцовой (если не так, то, значит, прав был Родион Раскольников). Ее жестокость стоит коллективной подлости соседей по коммуналке[8]. Корни драмы значительно глубже: приведший к кровавой развязке радикализм героини есть прямое следствие тех катастрофических для многих индивидуумов метаморфоз (в том числе, и гендерных), ломки представлений о сексуальности, неумения, неготовности женщины к самоидентификации (через язык или собственную телесность) и к повышению самооценки (через изменение духовной жизни — частной и общественной — или смены сферы деятельности).
История Ольги Зотовой — прекрасный материал для психоанализа. Отметим то, что табуированная — под воздействием внешних чрезвычайных причин — сексуальность вытесняется в область бессознательного, а оттуда выплескивается вовне в виде невроза, преувеличенной ненависти к субъектам и обстоятельствам, препятствующим нормальному осуществлению этой сексуальности. Однако более интересной в данном случае является эта ситуация с точки зрения лингвистической теории французского философа Жака Лакана, стремившегося переориентировать психоанализ на расшифровку способов, которыми конструируется человеческий субъект. «Лакан предложил психоаналитической теории, — пишет Дж. Митчелл, — новую науку лингвистику, которую он развил и изменил применительно к концепции субъективности. Человеческое животное рождается в языке, и именно в границах языка конструируется человеческий субъект. Язык не вырастает из индивида, он всегда находится там, во внешнем мире, ожидая новорожденного. Язык всегда «принадлежит» другому человеку»[9].
Таким образом, как и любое представление о своем «я», идея сексуальности есть всегда результат воздействия внешней для субъекта среды, формирующей его язык и понятия. Героиня повести «Гадюка» в этом отношении оказалась в весьма своеобразной ситуации. Лексикон сексуальности, приобретенный в прошлой дореволюционной жизни, был как бы отброшен, дезавуирован, стал ненужным для новой формы бытия Зотовой. Начав все с нуля, она попадает в среду, где сексуальный дискурс происходит в рамках противоположного пола, иного языкового уровня, иной объективности. Иначе, Ольга Вячеславовна порвав со старым мелкобуржуазным дискурсом сексуальности, учится жить в другом, мужском, казарменном. Позже, попав в ситуацию лингвистического вакуума, лишенная сексуального нарратива, она не умеет формулировать собственные представления об этой стороне своей индивидуальности. Скудость такого рода вокабулария, с одной стороны, делает ее личность ущерб ной, неполноценной, «несформулированной», а с другой, уводит сексуальность из области интеллектуально-психической в область инстинкта.
В этом отношении весьма показательно описание Толстым эротических переживаний Зотовой. Высказывание Симоны де Бовуар — «женщиной не рождаются, ею становятся»[10], можно продолжить — и через опыт сексуальный. Отсутствие его приводит к негативному восприятию своих желаний — «<...>жизнь била ее и толкла в ступе, а дури (курсив мой. — Е. Т.) не выбила, и «это», конечно, теперь начнется...» (215), — к одновременному стремлению и подавить, и найти способ их осуществления. «С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания... Ее девственность негодовала... Но — что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? <...> Это было не нужно, это было ужасно...» (216).
Отсутствие опыта — это и отсутствие «становления». Утратив, загнав в область бессознательного одну культуру сексуальности, Зотова вследствие «революционного трансвестизма» и ассоциации себя с мужской гендерной ролью не может адекватно воспринимать ту сексуальную культуру, которая развивалась в послереволюционном советском гражданском обществе. Поэтому все ее действия в попытках реализации своих инстинктов представляются окружающим прямолинейными, грубыми, нелепыми, агрессивными, «неженственными». Однажды она «решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней... А так — жизни нет...» (219). (Хочу опять обратить внимание на подчеркиваемую автором полную зависимость от мужчины, роль арбитра, которому, по высказыванию Р. Барта, изначально и принадлежит «верховная власть»[11]). Косноязычие сексуального словаря героини рельефно выразилась во время ее последней попытки поговорить с директором Махорочного треста: «Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула <...> Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно (курсив мой. — Е. Т)...» (319).
Идеи социального равенства, пропагандировавшиеся большевиками и автоматически переносившиеся в область семейно-любовных отношений, на поверку оказывались идеями уравнительного характера. Причем «планка равенства» устанавливалась по «мужскому росту». И женщина, чтобы соответствовать этим требованиям, должна была или насиловать свою природу, свое иное, рядиться в мужскую одежду, подражать мужскому образу жизни, подчиняться аксиологии маскулинистской парадигмы или подстраиваться под нее. Равенство имело формальный характер: после революции женщина могла стать депутатом, наркомом, но очень многие «освобожденные» женщины стали всего лишь молотобойцами, шпалоукладчицами, трактористками... В бытовой же сфере женщине отводилась вполне консервативная роль воспроизводительницы потомства, любовницы, домработницы, кухарки, долженствующей удовлетворять физиологические и гастрономические потребности мужчины (то есть женщины продолжают нести ответственность за дом, даже если они при это работают).
Революционный экстаз прошел, и если раньше Александра Коллонтай говорила и писала о «новой женщине», то позже Надежда Константиновна Крупская предлагала иную, победившую формулировку: «новая женщина» на производстве и прежняя дома.
Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого (попытка гендерного анализа)
Литература
[1] Т о л с т о й А. Н. Гадюка//Собр. соч. В 10 т. М.,1958. Т.4. С.195. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.
[2] См.: Ар и с т о т ель. Политика. Собр. соч. В 4-х тт. Т.4 М.,1984.
[3] Ф р е й д З. Психоанализ и теория сексуальности. СПб: 1998. С. 189.
[4] Цит. по: C о s t l о w J., S a n d l e r S., V о w l e s J. Introduction//Sexuality and Body in Russian Culture. Stanford, California, 1993. P. 15.
[5] Весьма любопытно наблюдение князя С. Волконского, очевидца революционных и послереволюционных метаморфоз, в том числе и «гендерного трансвестизма». Говоря о так называемой «эволюции большевизма» в начале нэпа, он пишет: «в комнате № 28 сидит барыня в нарядном черном платье с отменными манерами. Это тоже эволюция: вместо папахи с папироской» (В о л к о н с к и й С. М. Мои воспоминания. В 2-х томах. М.,1992. С. 352).
[6] Б а р т Р. Семиотика. Поэтика. М.,1994. С. 65-66.
[7] О с т р о в с к и й Н. А. Как закалялась сталь //Фурманов. Чапаев; Островский. Как закалялась сталь. М.,1979 (Б-ка мировой литературы для детей). Т.18. С. 535-536.
[8] О жестоких нравах коммунальной жизни 20-х годов красочно пишет в своих воспоминаниях княжна Е. А. Мещерская: «Не давая Алексееву и Кантору выйти из коридора, Васильев избивал их. Его лицо в нескольких местах было в ссадинах и кровоточило. Зато лицо Кантора было настолько залито кровью, что невозможно было понять, что именно разбито. У Алексеева кровь на лице смешалась с грязью: видимо, Васильев возил его лицом по полу. … Я боялась, что дравшиеся пустят в ход оружие, ведь у брата Кантора оно было так же, как у Алексеева и Васильева, но драка возникла случайно, и револьвера ни у одного при себе не было. … (М е щ е р с к а я Е., к н. Воспоминания. М.,2000. С. 240-241).
[9] М и т ч е л л Д. Женская сексуальность. Введение//Гендерные исследования. Харьков, 1998. № 1. С.72.
[10] Б о в у а р С., д е. Второй пол. СПб, 1997. С.310.
[11] Б а р т Р. Указ соч. С. 66.
Москва
Бородина А., Бородин Д.
Библиографическое описание
— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот с копной.
— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.
— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.
— В таком случае вы можете остаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять головной убор…
Михаил Булгаков. Собачье сердце (1925)
Проблема советского человека как человека определенного социально-исторического типа довольно давно привлекает внимание как отечественных, [1] так и зарубежных исследователей [2]. Поскольку в период существования Советского Союза отечественной науке (а также искусству, художественной литературе и публицистике) разрешалось только воспевать советского человека, представлять его венцом человеческой эволюции, то первые попытки историко-антропологических изысканий в этой области были сделаны в странах Запада. Интерес этот в условиях “холодной войны” был сугубо прагматическим: чтобы одержать победу на идеологическом фронте, Запад хотел знать своего противника в лицо. Так в США и Западной Европе возникает особое направление в гуманитарных исследованиях, занимающееся изучением различных аспектов жизни коммунистических обществ (прежде всего СССР). Именно в рамках этого направления, получившего название “советология”, и рассматривалась на Западе проблема нового советского человека [3]. С развитием диссидентского движения в самом СССР и увеличением потока эмигрантов в страны Запада возникает и русскоязычная литература о новом советском человеке. Она, во-первых, предоставила огромный материал из первых рук для западных специалистов, а, во-вторых, послужила отправной точкой для отечественных исследователей постсоветского периода.
О достоинствах и недостатках концепций, выдвинутых западными советологами и отечественными диссидентами, можно долго спорить, однако один существенный пробел бросается в глаза каждому, кто мало-мальски знаком с данной проблематикой. Речь идет о практическом отсутствии анализа различий между мужским и женским идеалом советского человека [4]. Для подавляющего большинства исследователей словосочетание “советский человек”, обозначало и мужчину, и женщину, хотя при этом рассматривался только мужчина, о другой ипостаси “советского человека” постоянно забывалось.
С развитием женской истории и гендерных исследований ситуация начала несколько меняться, уже сейчас есть ряд серьезных работ, позволяющих получить представление о том, что значило быть женщиной в Советском Союзе [5]. Все перечисленные работы строятся на конкретном историческом материале и описывают реальную жизнь женщин в СССР. Цель данной статьи несколько иная. Авторы разделяют тезис, высказанный В. Шляпентохом, о том, что “…советская политическая элита оперирует двумя видами стандартов — идеальным и практическим. Идеальный советский человек полностью отождествляет себя с советским обществом и существующим политическим режимом, всегда рассматривает общественные интересы как несравнимо более важные, чем интересы личные” [6]. Именно рассмотрению начального периода эволюции идеального стандарта, или правильнее сказать, образа новой советской женщины посвящается эта статья. При анализе авторы придерживались междисциплинарного подхода, исходя из того, что интеллектуальная история (или история идей) — дисциплина, существующая на стыке истории и литературоведения.
Изучать идеальные идеологические конструкции можно по-разному. Можно анализировать партийные постановления по соответствующим вопросам; при этом необходимо учитывать, что сфера непосредственного воздействия этих документов была ограничена. Гораздо более серьезное влияние на общественное сознание оказывала художественная литература, издававшаяся массовыми тиражами. В советском обществе роль художественной литературы на определенном этапе исторического развития многократно усиливалась монополией партии на политическую власть, партийным контролем над творчеством (возникновение Союза Писателей), существованием строгих канонов творческой деятельности (так называемый социалистический реализм), наконец, большей доступностью литературы по сравнению с другими развлечениями. Если дополнить уже нарисованную картину включением идеологически выдержанных произведений во все учебные программы, то влияние литературы на становление системы ценностей молодых поколений (и, в первую очередь, поколения 20-х — 30-х годов) становится очень весомым [7]. Индоктринация, или попытка привить людям ту или иную доктрину — один из способов социальной инженерии, применявшийся советским режимом. Сама доктрина часто модифицировалась в зависимости от требований политического момента. Все эти изменения четко прослеживаются на примере идеала советской женщины. Прежде чем перейти к рассмотрению идеала, необходимо хотя бы несколькими штрихами обозначить ту реальность, которая вызвала данный идеал к жизни. Революционный вихрь 1917 г. не прошел мимо “женского вопроса” — женщины были активными участницами исторических событий, а многие из них и лидерами, выходившими на первый план общественной жизни. Зачастую эти пламенные революционерки вынуждены были, так или иначе, разрешать одно сложившееся в силу традиции серьезное противоречие. Противоречие между личной жизнью (т.е. любовью, семьей, детьми, бытовыми заботами, традиционно связанными с женской долей) и новой общественной деятельностью. Окружающие часто считали, что они способны только на первое, пресекая их претензии на второе, презрительно напоминая им, что они — “бабы”. Во многом поэтому сами они предпочитали новое обращение — “товарищ”, подчеркивая свое право на равное отношение, на новое положение в обществе. Такое положение в самом деле было новым: никогда еще в таком массовом количестве российские женщины не принимали участия в общественно-политической жизни. Сформировался особый тип новой женщины — активистка, ответственный работник. Противоречие, существовавшее в жизни, не осталось незамеченным литераторами. Какой же виделась писателям 20-х — 30-х гг. новая советская женщина? Какой идеал женщины они предлагали читателям?
Первым идеалом новой советской женщины, что вполне закономерно, стала героиня, рожденная в огне революции и гражданской войны. Как отмечает Барбара Клеменс: “Советская героиня сначала появилась на страницах периодических изданий как медсестра, комиссар в армии, даже как боец. Она была скромна, тверда, преданна, отважна, смела, трудолюбива, энергична и часто молода. Она не задумывалась о своем личном благополучии. Если она была нужна на фронте, она могла, хотя и с сожалением, оставить своих детей; она могла мириться с физическими трудностями, не дрогнув принять бой, а в случае пленения — пытку и даже смерть, веря, что ее жертва стала вкладом в построение лучшего мира [8].
Такой самозабвенной революционеркой изображена новая советская женщина в произведениях Н. Островского (Тая в романе “Как закалялась сталь”), Ф. Гладкова (Даша в романе “Цемент”), В. Вишневского (Комиссар в “Оптимистической трагедии”), Б. Лавренева (Марютка в рассказе “Сорок первый”).
Начать анализ образа идеальной женщины двадцатых годов необходимо с литературного творчества А. Коллонтай, так как женские образы в произведениях вышеназванных авторов во многом явились лишь реакцией на ее повести. Парадоксальность ситуации состоит в том, что Александра Коллонтай, в отличие от многих авторов того времени, не ставила своей целью создать идеальный женский образ. В центре ее произведений женщина-активистка, революционерка. Как правило, эта женщины оказывается в ситуации выбора между общественной деятельностью и личной жизнью, при этом она готова успешно совмещать обе сферы. Следует отметить, что любимый мужчина изначально разделяет ее революционный порыв и большевистскую идеологию, зачастую это даже служит поводом их знакомства (например, в повестях “Василиса Малыгина”, “Большая любовь”). Однако вскоре (в период перехода к НЭПу) партнеры-мужчины требуют от нее сделать выбор, желательно в пользу “традиционной” семейной жизни. В основе этого лежит ревность, желание вновь монополизировать женщину, вернуть ее в положение своей собственности. При этом мужчины, приспосабливаясь к новой экономической политике, говоря словами героинь Коллонтай, “поглощаются мелкобуржуазной стихией”. Тем самым в глазах женщин они предают как любовь, так и завоевания революции: ведь для Василисы Малыгиной, Жени, героини “Сестер”, и других любовь и очищающая сила революции тесно переплетаются, освобождая их личности. Каждая героиня после сложных душевных переживаний порывает со своим возлюбленным, делая сознательный выбор и не изменяя себе. Коллонтай старается показать некоторые грани новых отношений, подчеркивая, что женщина самодостаточна, если она любит, то любит как свободная личность. Свобода эта проистекала из трех компонентов: свободного союза, активности женщины в общественной жизни, общественного (государственного) воспитания детей.
Интересно, как перекликается с такой трактовкой подход к образу новой женщины у Федора Гладкова в романе “Цемент”. Здесь также женщина поставлена перед необходимостью выбора между общественной деятельностью и семьей, также возникает у нее непонимание с мужчиной-партнером. Однако, судя по всему, Гладков, в отличие от Коллонтай, уже не верит в то, что можно совмещать общественную деятельность и личную жизнь.
Герой-красноармеец Глеб возвращается с фронта и ждет, что сейчас выбежит навстречу с криком жена, повиснет на шее, расплачется на груди. Он стосковался по домашнему уюту, заботе, женской ласке. Поэтому, встретив энергичную женщину в красной повязке (один из символов освобождения — женщины завязывали платок на затылке, а не под подбородком, как это было традиционно принято) и мужской гимнастерке (заявка на равноправие с мужчиной), он опешил. Она держалась с ним как равная, обращалась “товарищ”. Еще больше удивило его, что дочь их отдана на воспитание в детдом, так как жене некогда, все свои силы она отдает работе в женотделе. Дом пришел в запустенье. Нижеследующее описание у Гладкова очень показательно. Все то, что традиционно составляло мир женщины, чем она дышала, чего ждал от нее мужчина, очень выпукло представлено в переживаниях Глеба: “Днем Глеб совсем не бывал дома: эта заброшенная комната, с пыльным окном…, с немытым полом, была чужой и душной. … Приходил домой ночью, но Даша (жена) не встречала его, как в прежние времена. Тогда было уютно и ласково в комнатке. На окне дымилась кисейная занавеска, и цветы в плошках на подоконниках переливались огоньками. Глянцем зеркалился крашенный пол, пухло белела кровать, и ласково манила пахучая скатерть. Кипел самовар, и звенела чайная посуда. Здесь когда-то жила его (разрядка наша. — А. Б., Д. Б.) Даша — пела, вздыхала, смеялась…, играла с дочкой Нюркой” [9].
Гладков оканчивает роман, не доводя линию отношений Глеба и Даши до конца. Вполне возможно, что сам автор не представлял, как разрешить это противоречие. Тем не менее его уверенность в невозможности совместить работу на благо общества и на благо семьи укрепляется: в детдоме умирает дочь Глеба и Даши — Нюрка. Общественное мнение винит в этом именно Дашу, которая предпочла жизнь активистки материнству. Да и сама она мучается от угрызений совести. Она тоже сомневается в правильности своего выбора. По ее словам, “мать готова была предать революционерку”.
Необходимо отметить, что как Коллонтай, так и Гладков писали в 1923-24 гг. К концу двадцатых годов, когда “начинает завоевывать одобрение (руководства) тип женщины, более ориентированный на материнство”, в писательских подходах происходят существенные перемены [10]. Эта тенденция утверждается в тридцатые годы, когда, в соответствии с партийными резолюциями, советские женщины, освобожденные от гнета старого режима, должны были стать более женственными. [11]
Смена идеологических установок сразу же нашла отражение в советской литературе, которая все больше превращалась в рупор партии. Образ женщины активистки стал доводиться до абсурда, то, что вызывало восхищение в начале двадцатых годов, в тридцатые выглядело уже анахронизмом. Таковы, например, образы женщин-активисток в рассказе А. Толстого “Гадюка” и в “Гравюре на дереве” Б. Лавренева — героиня последнего ходит в кожанке, трясет наганом и на все критические замечания отвечает (не без гордости), что “мы университетов не кончали”. Еще более яркой иллюстрацией произошедшего сдвига является роман Веры Кетлинской “Мужество”. В романе множество интересных женских образов, однако нам следует особо остановится на образе Тони Васяевой. Девушка-комсомолка приехала на Дальний Восток, чтобы строить новый город. Она не жалеет сил в работе, но никак не может найти общий язык с другими юношами и девушками, не участвует в их посиделках у костра после работы, чувствует себя несчастной, несмотря на то, что живет в соответствии со своими убеждениями. Каковы же эти убеждения?
Она была строга к себе и старалась вытравить в душе всякое стремление к нежности, к ласке и уюту. Она боялась размякнуть, потерять свою ненависть, свою решительность, свою силу… Желала ли она любви? До сих пор она изгоняла любовь, как слабость. Она ненавидела прошлое, ненавидела мещанство, от которого веяло смердящим духом недобитого прошлого, ненавидела кокетство и наряды подруг, и невыдержанность парней. Ей казалось, что пока не кончена борьба (и борьба до победы коммунизма во всем мире), шутить, кокетничать, веселиться преступно. Выйти замуж — измена. Какой же из нее борец, если она связана семьей, детьми, любовью [12].
Поразмыслив над своей жизнью, Тоня приходит к выводу, что не привнесла в жизнь великой стройки “ничего, кроме пары рабочих рук”. Окружающие ее не любят и считают ханжой. В чем же причина такой несовместимости с окружающими людьми? Кетлинская приоткрывает завесу — она рассказывает о трудном детстве Тони, которая с матерью и младшим братом ютилась в женской уборной. Очень символичен сам факт, что в тридцатые годы (а роман писался в 1934-38 гг.) поведение Тони уже выглядит аномальным и требует дополнительного объяснения. Тоня постепенно интегрируется в нормальную жизнь — через любовь, сначала несчастную, потом счастливую, и семью. Она станет более душевной и женственной. К концу романа на тот же путь, по-видимому, станет и другая героиня-активистка — Клара Каплан, как член партии, более сознательная женщина, которая даже развелась с первым мужем из идейных соображений. Роман заканчивается тем, что Клара принимает приглашение приехать в гости от человека, в которого влюблена. И все же сказать, что к тридцатым годам “баба” окончательно поглотила “товарища”, нельзя. Скорее возник интересный симбиоз, в котором уже не было гармонии, характерной для произведений Коллонтай, а осталось лишь шаткое равновесие с риском “перекоса” в ту или другую сторону. Так “баба” и “товарищ” соединились в “советской женщине”.
Позже идеал советской женщины, воспевавшийся на торжественных собраниях в честь Международного Женского Дня 8-е Марта, в журналах “Работница” и “Крестьянка”, сочетал в себе традиционные и революционные стандарты: она должна была быть “преданной, трудолюбивой, аскетичной, как ее бабушка времен революции”, оставаясь одновременно “любящей матерью и хранительницей домашнего очага”. Так уже к середине тридцатых годов оформились идеологические предпосылки того, что было позже названо двойным бременем.
Ссылки
[1] См., например: Геллер М. Я. Винтики советской машины. М., 1997; Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М., 1998; Popov N., The Russian People Speak. Democracy at the Crossroads. Syracuse University Press, 1995.

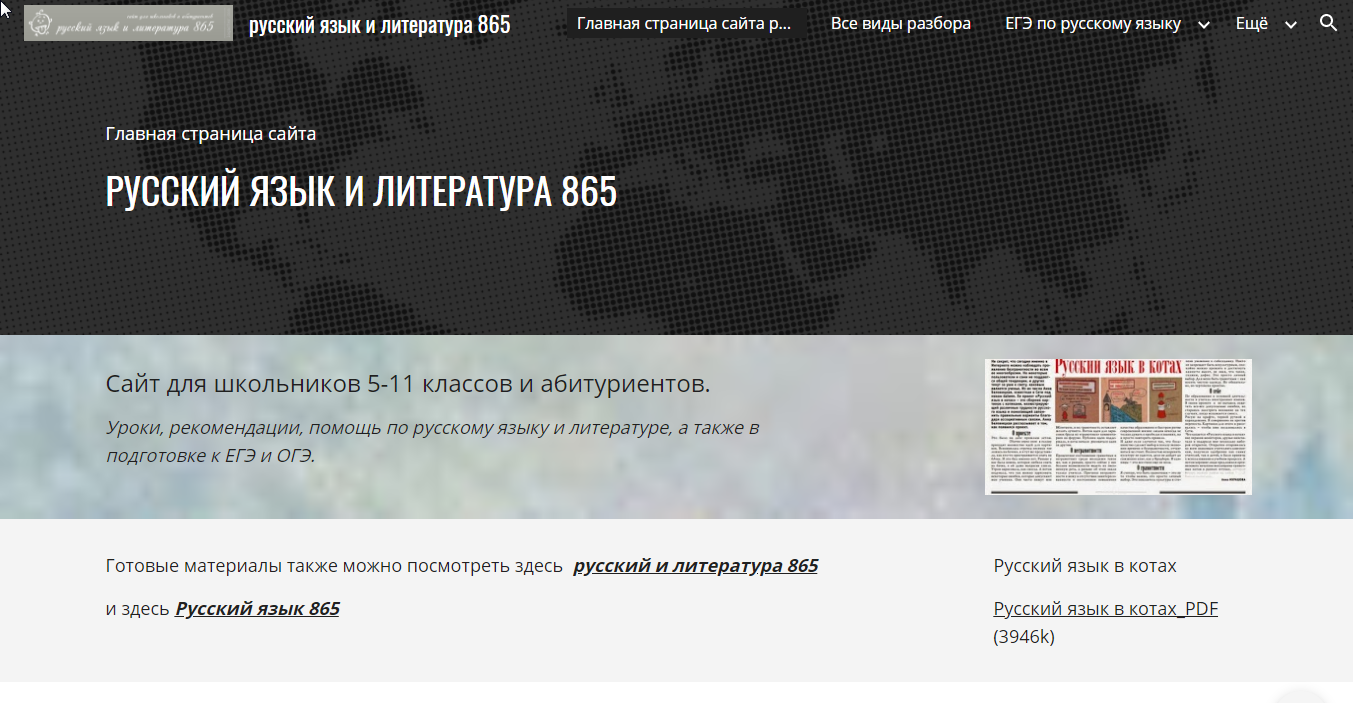
Комментариев нет:
Отправить комментарий