Руслан КИРЕЕВ
ДОСТОЕВСКИЙ.
НА СЕМЁНОВСКОМ ПЛАЦУ
полный текст смотрите здесь: Руслан КИРЕЕВ_1septemberМишель МОНТЕНЬ
Ранним утром из Петропавловской крепости быстро выехала вереница карет в сопровождении конных жандармов с обнажёнными саблями. В каретах было двадцать три человека, арестованных по так называемому делу петрашевцев ровно восемь месяцев назад, 22 апреля. Как взяли их тогда в лёгком весеннем одеянии, так и везли сейчас по морозу на Семёновскую площадь, где всё уже было готово к казни. Возвышался обтянутый чёрным эшафот, вокруг выстроились в каре войска, а в отдалении, на валу, темнели на фоне свежевыпавшего снега толпы любопытствующих.
Среди арестованных был и 27-летний автор вышедших три года назад и прогремевших на всю Россию «Бедных людей». Когда-то их восторженно приветствовал Белинский, вот уж полтора года как мёртвый, однако успевший перед смертью написать знаменитое письмо к Гоголю. В России оно было строжайше запрещено, о чём Достоевский, разумеется, прекрасно знал, но это не помешало ему на собрании петрашевцев дважды прочитать с присущим ему воодушевлением опальный текст. Власти расценили это как подрыв устоев, и вот теперь декабрьским утром настал час расплаты.
Арестованных вывели из карет, заставили снять шапки и в течение получаса им зачитывали скороговоркой документ, который заканчивался словами: “Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему»”. После этого каждому было вручено по белому балахону и колпаку, солдаты помогли несчастным облачиться в это предсмертное одеяние, священник пригласил исповедоваться, но желающих не нашлось, и тогда батюшка каждого обошёл с крестом и каждый к кресту приложился. Затем первых трёх привязали к столбам, надвинули на глаза колпаки, солдаты вскинули ружья.
“Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты”, — писал Достоевский в тот же день брату Михаилу из Петропавловской крепости, куда его с остальными осуждёнными вернули после того, как буквально в последнюю секунду на Семёновский плац была доставлена бумага, в которой возвещалось, что государь император великодушно заменяет смертную казнь на разные сроки наказания. Достоевский был приговорён к четырём годам каторги. Это не обескуражило его. “Никогда ещё таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь”, — спешил он обрадовать брата в том же письме. Но минута, что отделяла его от верной гибели, засела в его душе на всю жизнь и, собственно, во многом эту жизнь определила. И жизнь, и творчество — для Достоевского, впрочем, эти понятия нерасторжимы.
Рассуждая на первых же страницах «Идиота» о смертной казни, свидетелем которой ему привелось быть во Франции, князь Мышкин разгорячёно настаивает, что гильотина, выдаваемая чуть ли не за некий инструмент милосердия, страшней иных физических мук, на какие обрекают разбойники свою жертву. “Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно ещё надеется, что спасётся, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он ещё надеется, или бежит, или просит”. Приговор же, продолжает князь, отнимает “последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче”.
“Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты”, — писал Достоевский в тот же день брату Михаилу из Петропавловской крепости, куда его с остальными осуждёнными вернули после того, как буквально в последнюю секунду на Семёновский плац была доставлена бумага, в которой возвещалось, что государь император великодушно заменяет смертную казнь на разные сроки наказания. Достоевский был приговорён к четырём годам каторги. Это не обескуражило его. “Никогда ещё таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь”, — спешил он обрадовать брата в том же письме. Но минута, что отделяла его от верной гибели, засела в его душе на всю жизнь и, собственно, во многом эту жизнь определила. И жизнь, и творчество — для Достоевского, впрочем, эти понятия нерасторжимы.
И дальше: “Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучаться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать”.
Такой человек был, и он рассказал…
О гильотине вспоминает и другой герой «Идиота», Лебедев, причём говорит не о безымянном преступнике, а о некой реально существовавшей графине Дюбарри, казнённой в 1793 году по приговору революционного трибунала и в последний миг обратившейся к палачу с мольбой повременить ещё хотя бы минуточку. Позже эта злосчастная графиня с её предсмертным криком — “Ещё минуточку, господин палач, ещё минуточку!” — появится на страницах «Дневника писателя» за 1873 год, но тут автор, который эту самую минуточку пережил на собственной шкуре, добавляет убеждённо: “В двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если б ей её подарили”. Почти четверть века минуло после драмы на Семёновском плацу, а он эту самую “минуточку”, после которой, говоря словами Мышкина, “душа из тела вылетит, и… человеком уж больше не будешь”, помнил отлично. Он носил её в себе, как герой «Вечного мужа» Трусоцкий носил на шляпе траурный креп, разве что для героя повести сия мрачная деталь туалета была родом психологического щегольства (“гость… с твёрдым достоинством указал на креп”), Достоевский же полученную им на Семёновском плацу трагическую отметину прятал глубоко в сердце. Но она то и дело давала о себе знать — и в жизни, и, главное, в творчестве.




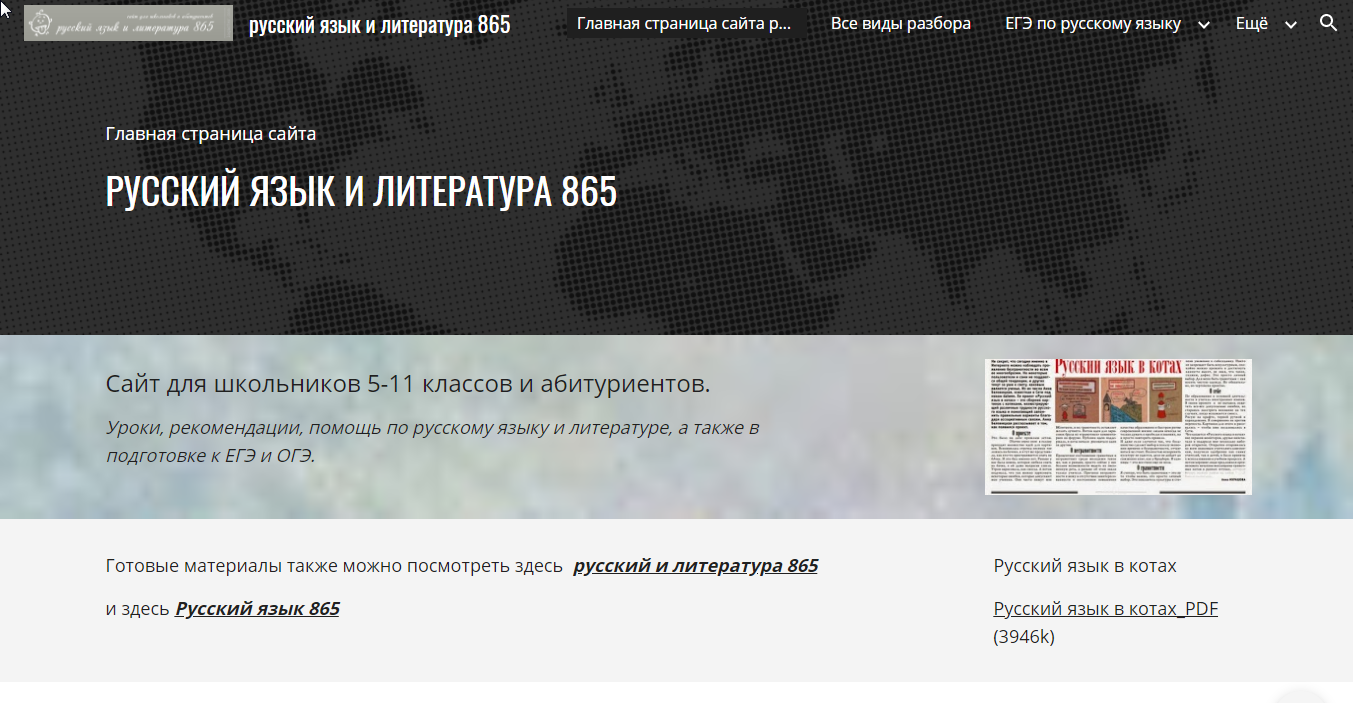
Комментариев нет:
Отправить комментарий